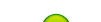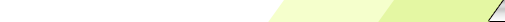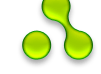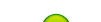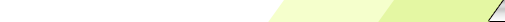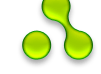| Они же утверждают, что в творчестве гомосексуалисты более утонченны, более чувствительны, более изысканны! Лично у меня к Покровским Воротам отношение особое. Дело в том, что я там вырос: в Старосадском переулке родился еще мой дед, а в Большом Вузовском, когда-то, и ныне - Трехсвятительском, стоит моя школа, в которой учился еще Александр Галич. (В марте 1974-го он даже пришел с гитарой на встречу выпускников, но директриса его не пустила.)
На Покровском бульваре до сих пор стоит скамейка, на которой отмеряна моя «третья попа слева», и нет такого проходного двора, который я не мог бы пройти с закрытыми глазами.
Но когда я впервые - а потом уже много раз – посмотрел «Покровские Ворота» Михаила Козакова, у меня возник вопрос: а где же ОНИ, МОИ Покровские ворота… почему я их не узнаю?!!
К 20-летнему юбилею этого фильма, мы попросили отрывок из новой книги Михаила Михайловича. Естественно, что при встрече с ним я не смог удержаться от вопроса о топографии его «Покровских Ворот».
Представьте: квартира в Замоскворечье, библиотека, хозяин в домашнем халате с курительной трубкой во рту. На столе лежат еще семнадцать. - А я и не стремился к точности топографического образа! Это был образ времени! Образ оттепели конца 50-х годов, который мог возникнуть в любой точке старой Москвы! Это совершенно нормально, что вы, человек, выросший на Покровке 60-70-х годов, СВОЕГО там не видите! Это фильм о моем поколении, о моем времени… Обратите внимание, каждый из нас, когда читает книгу или смотрит кино, хочет прочесть или увидеть что-то про самого себя…
- У меня было три таких фильма: «Пролетая над Гнездом Кукушки», «Последнее Танго в Париже» и «Весь Этот Джаз».
- Вот! Гениальный фильм! Я его посмотрел уже не помню сколько раз, и все время ассоциирую себя с этим Джо Гидеоном – мне кажется, что все это было со мной!..
- А «Жестяной Барабан»?
- Потрясающее кино! Своего рода эпос. Это настоящее, «без понтов». Страшное кино. К сожалению, Шлендорф больше не смог подняться до таких высот, но и одного такого – достаточно.
- А что вы можете назвать любимым из нашего кино?
- «Обыкновенное Чудо». Я обожаю режиссуру Захарова, каждый раз хохочу и плачу, когда вижу Андрюшу Миронова, Янковского, Леонова… Женя Симонова там удивительно играет, Купченко, Абдулов… Ну, еще старое кино, конечно. Вот, недавно в сотый раз посмотрел «Цирк» и получил огромное удовольствие! Это, конечно, сказка о тех временах, но сказка добрая. (пауза) Из последнего мне понравились «Дневник его жены» Учителя, совсем иная «Москва» Зельдовича, «Телец» Сокурова.
- Михаил Михайлович, два года назад вся московская интеллигенция раскололась на два лагеря: одни с восторгом приняли «Сибирского Цирюльника» и оплевали «Хрусталев, машину!», а другие – до смешного наоборот. А вы к какому лагерю принадлежите?
- Ни к тому, ни к другому. Я, к сожалению, не полюбил оба фильма, при том, что как режиссеров я очень люблю обоих: и Михалкова, и Германа. Я так скажу: даже «Утомленные Солнцем» – на мой взгляд, Кино! Конъюнктурное, отчасти, но – кино, а здесь я просто недоумевал: «Цирюльник» распадается по жанру, по смыслу… Герман тоже: я высоко ставлю его «20 дней без войны», «Проверки на дорогах», а тут я путался! Я ничего не мог понять! Эта картина вызвала у меня депрессию. Я шел с ожиданием, мне очень хотелось, чтобы понравилось, но я просто растерялся. Мне Майя Туровская сказала: ты не старайся думать, ты отдайся этой картине… Но я же не девочка, чтобы просто отдаваться!.. Я вам так скажу, что даже у Бродского читаю только то, что понимаю, а что не понимаю – вслух не читаю…
- А у вас есть что-нибудь «на входе» в кино или на телевидении?
- Ничего. По возрасту уже пора бы о Лире подумать, но это для театра. У меня там, кстати, есть один лично мною изобретенный ход… Говорят, плохая примета, но ладно, все равно, расскажу. Король Лир все время боится сойти с ума, что с ним, в итоге, и происходит. В своих взрослых дочерях он все время видит маленьких девочек! И, когда Корделию убивают, он выносит на руках тело маленького ребенка! В театре это вполне можно сделать! Конечно, в моей антрепризе этого не поднять, для «Лира» нужны огромные средства…
- Кстати об антрепризе: вы для себя принимаете законы шоу-бизнеса? В том плане, что задача – как у эстрадного продюсера – «нарулить шлягер»?
- Ну, если антрепризу называть шоу-бизнесом, то и все муниципальные театры – тоже шоу-бизнес! Акунинская «Чайка» у Райхельгауза, это ведь тоже – нарулить шлягер! «Номер 13» во МХАТе – абсолютно антрепризная постановка, кстати, совершенно блестящая. Только, антреприза – это риск, и рискуем мы своими собственными деньгами, а значит – ошибка смерти подобна! И при этом я ставлю совсем не простую драматургию – Дюрренматта, Кауарда! Но учтите, Сережа: мы все хотим быть понятыми зрителем. Не верьте тому режиссеру, кто скажет, что нет. Вот Анатолий Васильев дал интервью Диброву: мол, мне все равно, мне наплевать ена зрителя… Врет! Зачем же он тогда пришел на телевидение? Это «пиар» наоборот.
- То есть – принцип «голого короля»?
- Нет, уж давайте я буду формулировать сам: именно, «пиар» наоборот!
- Михаил Михайлович, основной прием антрепризы – использовать кинозвезд, а значит, по принципам построения она ближе к кино, чем к театру!
- Ничего подобного. Я люблю работать именно с театральными актерами, только с ними можно сделать нормальный спектакль. Но и в муниципальных театрах сейчас работают с приглашенными актерами! Гинкас в «Черном Монахе» использует актеров Генриэтты Яновской, Козак зовет Фоменко, Райкин – того же Фоменко и Стеклова. А в антрепризе просто необходимы, как минимум, два имени, моего одного уже мало. Иначе антреприза лопнет! А соединить актеров разных школ в едином стиле – вот это, действительно, сложнейшая задача для режиссера!
- Ну а почему же тогда за средней антрепризой устоялся такой образ халтуры?
- Я не хочу отвечать в среднем, я отвечаю за себя. Конечно, халтуры много, но ее много и в бюджетных театрах! А уровень… Вот я уже много лет бьюсь с одной идеей. Пусть в Москве будет Один театр бродвейского типа: пусть он принадлежит Моссовету, который будет его сдавать различным антрепризам по разумным ценам! Сейчас директора театров требуют просто бешеные деньги за аренду, поэтому у нас цена билетов в разы выше, чем в муниципальных театрах, а это очень плохо. А в этом театре можно будет приблизиться к нормальным ценам. И уже там мы условимся об уровне, халтурные спектакли в этот театр допускать не будем – надо держать марку. Но ведь и сейчас есть прекрасные антрепризы, Лени Трушкина, например!
- Должен вам признаться, «Ужин с дураком» мне не понравился.
- Мне тоже! Хазанов – эстрадная звезда, Басилашвили больше известен по кино, но несколько минут присутствия на сцене блестящего Анатолия Равиковича делают спектакль просто хорошим!
- Ну а обе девочки – просто никакие…
- А сделать состав ровным – крайне сложно! Но этим же страдают и муниципальные театры, Давайте зайдем, скажем, на «Малую Бронную»…
- Ой, давайте не будем…
- Ну, хорошо, в театр Гоголя или в «Современник». Не будем называть имен, но там ведь тоже в приличных спектаклях есть совсем плохие актерские работы!
- Так какая же основная функция театра? Развлекательная, воспитательная, прибыльная?
- А у него несколько функций. Причем, основную выделить совершенно невозможно. Григорию Козинцеву как-то задали вопрос: «Зачем нужно искусство?» А он ответил: «Чтоб не скотели!» А мы сегодня иногда просто скотеем, и помогает нам в этом – эстрада, кино, телевидение… Там ко всему прочему, даже профессия забыта: кто деньги нашел – тот и хозяин! Тут была у меня пара актерских работ, прихожу потом, смотрю – господи, так же просто нельзя монтировать! И никакого права запретить выход ЭТОГО на экран у меня нет!
- Значит ли это, что вы за ввод цензуры?
- (долгая пауза, закуривает трубку) Ну, уж кому, как не мне, знать все ужасы цензуры, но… это беспредел какой-то! Что-то, все-таки, должно быть, если нет самоцензуры. Худсовет, что ли…
- А ваш Шейлок в «Венецианском Купце» вам самому нравится?
- Я им доволен. Такой мощный характер, так интересно его играть… Ненависть его, чувство юмора, даже ловушка, в которую он попадает… Безумно интересно! Другое дело, что вокруг него там не все удалось, эстетика эта…
- Михаил Михайлович, простите, но ведь и сам бунт Шейлока в этой постановке воспринимается именно, как бунт против… всей этой голубой эстетики!
- Знаете, это особая тема. Ее не хотелось бы трогать походя, как бы – лягнуть и побежать дальше. Когда все эти люди боролись за свое право быть такими, какие они есть, я считал, что это справедливо. Но вот когда все это стало можно, и даже модно, мне претит, что они диктуют всем свою эстетику! Они же утверждают, что в творчестве гомосексуалисты более утонченны, более чувствительны, более изысканны! Мало того, что меня, как «натурала», это просто оскорбляет, но ведь это же просто неправда! И в результате, весь Теннеси Уильямс в переводе – просто загублен! Если, конечно, в нем вообще что-то было… Ни одно меньшинство, ни одно сообщество не имеет права претендовать на избранность!
- Это относится и к народам?
- О, да, миленький мой, конечно! Самые интеллигентные люди Израиля уже просто морщатся при упоминании об избранности еврейского народа!
- Я давно мучаюсь вопросом: насколько связаны Этика и Эстетика?
- (пауза) По-моему, Бродский считает, что не связаны… боюсь соврать… А для меня – связаны! Есть пьесы, которые мне кажутся интересными, но, если они для меня этиченски табуированы, я это играть опять не могу.
- А какую музыку вы слушаете?
- Джаз! Очень люблю джаз, и «ретро», и современный!
- А из эстрады, что у вас не вызывает отвращения?
- (и снова пауза) Я, вообще-то, оптимист. Так люблю радоваться, хватаюсь за все хорошее… Ну, скажем, я не очень люблю Леонтьева, но как вижу его колоссальный труд, сразу так хочется его уважать! Пугачеву люблю, большая певица. Надеюсь на молодых, например на Земфиру. Я – оптимист.
- Михаил Михайлович, вы какой-то – грустный оптимист! Я вам сейчас задам страшный вопрос: куда идет наша знаменитая русская культура?
- Не знаю. Во всем царит какая-то… растерянность. Растерянность во всем, причем в обоих смыслах: «растерять» и «растеряться». Ни у кого не получается, у меня тоже… Получается сегодня только у прагматиков, а искусство делают романтики, но время наше не располагает к романтизму. Страшновато даже. Бродский как-то сказал: «Человечество, само того не понимая, живет в эпоху ПОСТХРИСТИАНСТВА!»
- А что вы сейчас читаете?
- Знаете, читаю много. Я вообще-то, читатель, все глаза себе вычитал! Но предпочитаю литературоведение, эссеистику, искусствоведение, мемуарную литературу. Мог бы назвать десятки книг! Ах, вот удивительная книжка: мемуары Мариенгофа – это очень хорошо! Я бы вам с удовольствием подарил, но у меня только один экземпляр остался. Причем, мне повезло, я лично знал большинство этих великих людей, дядю Женю Шварца, дядю Толю Мариенгофа… а сегодня читаю их с потрясающим удовольствием! (пауза) В общем – мемуары. Детективы не читаю
- А что скажете по поводу так называемой «новой литературы»?
- Это Сорокин, Пелевин, Акунин? Скажу прямо, последнему предпочитаю Чхартишвили, «Писатель и самоубийство».
- А что из переводного?
- Это, пожалуй, Фаулз, Патрик Зюскинд, Джулиан Барнз, последние вещи Кундеры, но ни одного… властителя дум масштаба Фолкнера или Толстого, как-то не видно. Ни там, ни здесь.
- А может быть, дело во вседозволенности? Вот, на каком-нибудь языке вы читали единственную цензурно запрещенную сегодня в России книгу: «Сатанинские Стихи»?
- Этого, Рушди, что ли? Нет, не читал. Не знаю, не знаю, что это, но… интуиция мне говорит, что это не великое сочинение. ВЕЛИКОЕ прорвалось бы, несмотря ни на что.
- Михаил Михайлович, вы – человек вчерашний или сегодняшний?
- (долгая пауза) Я человек середины ХХ века. Я живу представлениями о жизни, заложенными в меня моими родителями, моими друзьями, учителями… Жизнь человеческого духа на сцене, поиск смысла жизни, это для меня не просто слова. К деньгам я… ну, мои родители говорили: бедность не порок, но большое свинство. Денег должно хватать для нормальной жизни – и все. Богатым в нищей стране быть стыдно, а тем более, выставлять это богатство напоказ… Но у меня же молодая жена, дети маленькие, я ДОЛЖЕН зарабатывать деньги!
- Знаете, некоторое время назад, когда здесь было совсем плохо, у меня у самого возникали мысли о том, чтобы уехать, причем, оправдывал я это желание тем, что хочу себя почувствовать частью социума, частью народа, а со своим родным народом я объединиться уже просто не могу…
- Уезжать в зрелом возрасте – это трагедия. Там вы тоже будете чувствовать себя инородным телом. Вот мой внук – Киркин сын – живет в Америке, так он уже американец, а мы…
- Михаил Михайлович, а вы когда-нибудь пробовали почувствовать себя евреем?
- Не получилось. Я сразу почувствовал себя частью эмиграции. Да какой я еврей? Я попытался выучить язык, играл на нем, но всегда был там инородным телом. Вот, послушайте: когда-то моей мечтой была Америка, я был, что называется, «в поисках Грустного Бэби», как Вася Аксенов писал… Там – джаз, там – кино, там – мюзикл… В первый раз приехал – ну фантастика, просто другая планета! Потом – тоже. Но вот недавно мы с Аней в Нью-Йорке месяц жили, в хорошей гостинице, в центре Манхэттена… Вроде бы мечтал, да? Так я за первые пять дней все свои спектакли отработал, а потом – ну что там делать? Анька работает, а мне – куда? В музеи? Ну сколько раз можно в музей ходить! Опять на мюзиклы? Ну, первые дни, да… А потом? Регина, моя бывшая жена помогала, детей куда-то забирала, хорошо, да? Но мне там – месяц! Даже в гости пойти не к кому, все умерли уже! Сидел, как идиот, дневники писал. Вот сидел-сидел и пошел к Роме Каплану, в «Самовар», в маразм эмигранский! Ну сколько там сидеть можно – я не пью… ну, пива там взял… Ну, посидел, потрепались там… Очень скучно. Вечером ложусь спать и думаю: ну, б…, больше в этот «Самовар» – ни ногой! А на следующий день – ну, куда мне? – опять в «Самовар» поперся… А вот здесь, в Москве, ну спросите меня, что ты, старый дурак в этой своей комнате нашел? А я здесь полежу, почитаю, трубочку закурю, еще почитаю, вот вы зашли, тоже радость… По телефону поговорю, режиссера-идиота вслух кретином назову – все радость! Вот, и выясняется: я-то думал, что я Человек Мира, а я…
- Михаил Михайлович, что для вас значит - «русский»?
- Ну – я русский. Любой человек, выросший в России, говорящий и думающий по-русски, – русский. Вот странно: у меня в школе антисемитизма не было, мы тогда вообще слова «национальность» не знали… а у Бродского уже был! Вот, хорошая история: сын Вениамина Каверина пришел к родителям, и спрашивает, кто такие евреи? Отец говорит: это такая национальность есть, люди такие. А какие? Ну, отвечает, мы, например, евреи. Вы – евреи? Вот ужас-то!!! (смеется) Я вообще-то полукровка, у меня столько всего намешано: евреи, сербы, русские… Но это же хорошо! Известно, чем больше кровей мешается, тем лучше. Вот хасиды в Израиле – типичные вырожденцы, даже внешне! А к кому что-то подмешалось – красавцы просто!
- Скажите, а у вас, кроме «Короля Лира», есть ли еще какие-нибудь мечты?
- (долгая пауза, набивает трубку) Мечта моя – найти ту пьесу, ту роль, которая могла бы стать моей мечтой.
- А скажите, в искусстве – в любом – когда у вас последний раз возникало ощущение того, что «Россия дождалась»?
- Это Бродский. 70-й год, «Остановка в пустыне». Я тогда – как с ума сошел, говоря его языком – «заторчал», ко всем приходил и читал вслух… Вот, послушайте (встает, берет с полки затрепанный томик, читает): «Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой…»
|